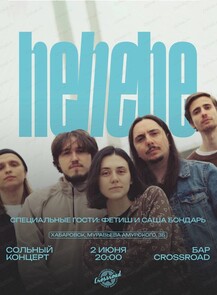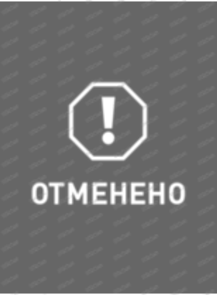Also sprach Zarathustra
Рецензия на фильм «Молодость без молодости»

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
В ролях: Тим Рот, Александра Мария Лара, Бруно Ганц, Андре Хеннике, Марсель Юреш, Эдриэн Пинтеа, Александра Пиричи, Флорин Пирсич-мл., Золтан Бутук, Адриана Титьени
Фридрих Ницше однажды заметил: «Познающий не любит погружаться в воды истины не тогда, когда она грязна, а когда она мелкая». Погрузившись в фильм «Молодость без молодости», я не сумел достать дна. Я видел, насколько глубоки его идеи и отсылки, но моих знаний и кругозора не хватало, чтобы понять их во всю глубину. После фильма я провел бессонную ночь, погруженный в раздумья, рылся в справочниках и энциклопедиях, листал сохранившиеся университетские конспекты по философии и истории языка. Фильм полностью завладел моими мыслями на несколько дней, и даже повторный его просмотр не помог полностью избавиться от некоторых неясностей.
Этот фильм существует в двух не пересекающихся плоскостях: как кино и как философский концепт. Возможно, кто-то воспримет его только как явление кинематографа и тогда просто не поймет, о чем фильм, о чем говорит его создатель со зрителем. Но и для понимания философского концепта фильма нужно иметь достаточный багаж знаний или хотя бы неуемное стремление к их получению, иначе ключевые смысловые моменты могут просто остаться за границей восприятия. Когда же оба аспекта фильма воспринимаются параллельно и по возможности полноценно, итогом становится неописуемое состояние духа, в котором замешаны сильнейшие, порой диаметральные эмоции и глубочайшие раздумья в нескончаемом потоке сознания.
Фрэнсис Форд Коппола «молчал» 10 лет. Для любого художника такой перерыв — это подготовка к чему-то большому, важному, во время которой он исследует, прежде всего, себя самого, свое мироощущение. О том, к каким выводам пришел Коппола можно косвенно судить по первому после перерыва большому его произведению «Молодость без молодости», в котором он обратился к рассказу румынского писателя, философа и историка Мирча Элиаде. Подобный выбор всегда говорит о том, что, видимо, именно это произведение вступило в резонанс с идеями художника, его отношениями с реальностью. И нашло наилучшее отражение уже в произведении этого художника.
«Молодость без молодости» следует двум основополагающим концептам немецкого философа Фридриха Ницше (недаром он был упомянут в самом начале этого текста): о сверхчеловеке и о вечном возвращении. Но это отнюдь не пересказ этих двух концептов и не молчаливое согласие с ними. Коппола (видимо, вслед за Элиаде) вступает в дипломатичный диалог с Ницше, пытается углубиться в суть его суждений, обнаружить их генезис и даже деликатно подвергнуть сомнению их абсолютность. В ходе этого диалога возникают пересечения с другими философскими доктринами и их идеями, а мостом между ними становится исследование происхождения языков вплоть до момента возникновения прамирового языка (в соответствии с теорией моногенеза).
Отсылки к Ницше достаточно очевидны, но нужно быть очень внимательным, чтобы не истолковать их неверно. Доминик Матей, главный герой в исполнении Тима Рота, после удара молнии молодеет на 30 лет и получает невероятные способности, например, гипермнезию, изменяется его восприятие реальности во сне и бодрствовании, его сущность разделяется на две. Он теперь выше всех людей, превосходит их. Но делает ли это его сверхчеловеком по Ницше? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно смотреть гораздо глубже.
Ницше говорил: «Человек — это канат, натянутый между животным и сверхчеловеком, — канат над пропастью». Сверхчеловек — обладатель несокрушимой воли, гений, но самое главное, творец новых ценностей (духовных, моральных, культурных), а, значит, разрушитель старых (если они еще остались). Доминик — профессор лингвистики, делом всей жизни которого было изучение вопросов происхождения языка, и, получив сверхспособности, он не свернул с прежнего пути, а продолжил свое исследование. Выходит, что продвинувшись вперед по отношению к остальным обычным людям, он продолжил движение «назад», вглубь истории, к изучению истоков нынешних ценностей. Доминик не создает новую культуру, а исследует старую. Кроме того, со своим alter ego, двойником собственной сущности, он обсуждает вероятность возникновения сверхчеловека в пост-историческом мире, мире после ядерной войны (к этому вопросу мы еще вернемся). Все это позволяет сделать вывод, что Доминик Матей — не сверхчеловек Ницше. Он, скорее, глашатай, предтеча пришествия сверхчеловека, и здесь Коппола проводит явную аналогию с Заратустрой. Тому есть дополнительные подтверждения. Вспомним, Заратустра спустился к людям после десяти лет пребывания на горе, куда он ушел в 30 лет, т.е. в возрасте 40 лет. Главный герой фильма после удара молнии, по словам доктора Станчулеску и других врачей, стал выглядеть на 40 лет. В книге «Так говорил Заратустра» Ницше неоднократно сравнивает сверхчеловека, о котором учит проповедник Заратустра, с молнией, которая ударит людей. И именно молния стала причиной всех изменений сначала в Доминике Матее, а затем и в Веронике, — молния не сделала из них сверхлюдей, но как бы обозначила их, указала, что вот они, предтечи.
Другая очень сильная идея Ницше, лежащая в основе философии фильма — идея дуализма культуры. Начиная от самого явного ее воплощения — раздвоения личности Доминика на (условно) темную и (условно) светлую, до противопоставления его движения «вперед» по сравнению с остальными людьми и движения «назад» в изучении происхождения языка, молодости и старости, материального и мыслимого, и вплоть до явления в одном из эпизодов бога Шивы, несущего как созидание, так и разрушение. Более мелких, но не менее значимых проявлений дуализма культуры в фильме очень много, все не перечислишь, но насколько важна эта идея, становится ясно в финальном эпизоде, где сталкиваются сразу несколько философских идей.
Интересно, как деликатно Коппола подводит зрителя к мысли о несовершенности идей Ницше, пользуясь его же принципом дуализма. В одной из самых эффектных сцен, очень близкой к финалу, Доминик спорит с двойником своей сущности (дуализм) о том, что ядерная война не является единственно необходимой мерой для перехода человека на следующую ступень — к сверхчеловеку. Здесь видно коренное столкновение двух идей, противопоставление человек — сверхчеловек, добродетель — наука, история — пост-история. Заканчивается эта сцена неожиданно: Доминик, положивший жизнь на алтарь науки, предтеча сверхчеловека, становится на сторону людей, добродетели, истории и уничтожает своего двойника. Однако вместе с этим он уничтожает и себя того, какого обрел, — он оказался не готов не только провозгласить пришествие сверхчеловека, но и сам его принять. Это приводит парадоксу и в финальной сцене сталкиваются концепты вечного возвращения и дуализма (сон — реальность, старость — молодость и т.д.).
Одним из самых сложных и интересных вопросов фильма остается вопрос о трех розах. Когда Доминик требует от своего двойника доказательства объективности существования, тот предлагает ему три благоухающие свежесрезанные розы. Доминик просит вложить одну из них себе в правую руку, вторую на колено, а куда положить третью розу он сказать не успевает — его перебивает доктор Станчулеску, ставший свидетелем этой материализации. Дело в том, что, судя по всему, эта третья роза является очень важным символом в фильме: на фоне бутона розы написано название фильма в самом начале, словами о третьей розе и, собственно, ее появлением фильм завершается. Возможно, Коппола дал подсказку: в конце фильма дважды голосом Доминика произносится фраза «Куда положить третью розу?», а затем женский голос (Вероники/Лауры) произносит: «Куда мне положить третью розу?». Если вернуться несколько назад, к моменту спиритической встречи Вероники (а точнее Рупини) с Шивой, можно предположить, что три розы связаны с тримурти — индуистской троицей богов: Брахмой-создателем, Вишну-хранителем и Шивой-разрушителем. Ведь именно такие стадии проходил Доминик (в различных смыслах), а появление третьей розы совпадает с абсолютным разрушением всего, что пережил и создал Доминик, в том числе его дважды прожитой жизни. Такая аналогия возможна еще потому, что в индуистской культуре Шива считается создателем языка (санскрита), а ведь именно к истокам языка двигался Доминик (хотя санскрит значительно моложе искомого прамирового языка, именно открытие европейцами санскрита дало начало теории о праиндоевропейском языке, а затем и о моногенезисе). Помимо аналогии с тримурти, можно обратиться еще и к буддизму, ведь Рупини, чей дух переселился в Веронику, была последовательницей Чандракирти, мыслителя, давшего толчок развитию буддизма в нынешнем виде, и именно его труды она переписывала в пещере, когда ударила молния. В буддизме роза символизирует тройственную истину: знание, закон и путь порядка. И вновь здесь можно провести аналогию с путем, пройденным Домиником: он обрел знания, познал (или стремился к познанию) законы, но финал (в котором и появилась третья роза) восстановил правильный порядок вещей.
Есть еще одна гипотеза, гораздо менее правдоподобная, но более романтичная и красивая. Доминик, отдав жизнь науке, был несчастлив в любви — оба раза он вставал перед дилеммой: наука или любовь, и даже несмотря на то, что ответы был разными, итог был неизменным — он оставался один, лишенный тепла любви. Возможно, эти три розы являются еще одним проявлением дуализма, только несколько более сложного порядка (здесь нет ни логической, ни математической ошибки). Появление первых двух роз — это демонстрация дуализма материальное — мыслимое, а противопоставление двух эпизодов появления роз, в первом из которых источником послужил двойник Доминика, а во втором, судя по всему, Вероника — это дуализм мужское — женское. Что же символизируют на самом деле эти три розы сказать сложно. Последняя версия, конечно, звучит натянуто, но зато вполне может вписаться в кинематографический аспект фильма.
Как уже было отмечено, фильм «Молодость без молодости» отчетливо расслаивается на два уровня восприятия: как кино и как философский концепт. Если размышления над философским концептом не затмевают восприятие фильма как явления кинематографа, то можно отметить, на каком невероятно высоком уровне он сделан. Это касается всех параметров, по которым можно оценить кино.
Во-первых, это, конечно, Тим Рот — один из единиц актеров в мире, на котором можно целиком построить шедевр (что до этого было доказано, например, «Легендой о пианисте» Джузеппе Торнаторе). Один только момент, когда он, помолодевший после удара молнии, впервые выходит из больницы, по-стариковски сутулясь, расставляя ноги, подтягивая руки, вызывает просто неописуемый восторг. И таких фигур высшего актерского пилотажа в фильме немало. Отдельной похвалы заслуживает его упорство в заучивании фраз на паре десятков языков мира, начиная от китайского и санскрита, и заканчивая выдуманным его героем искусственным языком. Когда в ответ на вопрос немецкой разведчицы, заданный по-русски: «Ты меня любишь?», — Тим Рот отвечает: «Da, bol’she chem ya predpolagal», — хочется вместо этой фашистки ответить ему от всей русской души: «Spasibo!».
Во-вторых, кинематография. Операторская работа и монтаж в «Молодости без молодости» — это поистине филигранная работа. Визуально передать изменения восприятия героем реальности — задача не из легких, но она выполнена превосходно. Оставляют приятное впечатление и сцены диалогов главного героя со своим alter ego. Но, пожалуй, сильнее всего впечатляют сцены, снятые на «уходящей натуре»: рассветные, закатные, а особенно сцена на камнях в бушующем море, где штормовые волны бьют прямо по Тиму Роту и его напарнице Александре Марии Ларе, едва держащимся на камнях.
В-третьих, это, несомненно, режиссура и драматургия. «Молодость без молодости» — фильм совершенно особенный. Во время его просмотра остро ощущаешь, насколько современное кино стало искусственным по отношению к повествованию, каким-то костылем. Мы уже слишком привыкли, что истории в кино рассказываются максимально быстро и сжато, как будто на сбитом дыхании, где от зрителя требуется только одно: не поперхнуться. Ощущение «погружения» в кино, несмотря на все увеличивающиеся хронометражи, сейчас появляется все реже. В «Молодости без молодости» повествование идет так, что уже на пятой минуте забываешь, что смотришь кино, и ощущаешь себя там, в этой истории. Даже несмотря на достаточно живой галоп по времени, ни разу не возникает ощущения скачкообразного движения или рваности — фильм идет плавно, но не утомительно. Хотя, по правде говоря, удивляться здесь нечему — как-никак Фрэнсис Форд Коппола собственной персоной.
Кроме того, сама история, если отставить в сторону философскую составляющую, немалоинтересна: научно-фантастический сюжет переплетается с приключенческим и романтичным, что в итоге дает прекрасное сочетание даже для не самых ориентированных на анализ зрителей.
Выносить какое-то однозначное суждение о фильме «Молодость без молодости» сложно. Это очень необычный фильм, фильм-рассуждение в доступной массам форме, фильм-философский концепт, не дающий всех ответов. Фильм, для которого в домашней видеотеке должна быть отдельная полка. Одно можно сказать точно: он производит неизгладимое впечатление, которое не отступает даже по прошествии нескольких дней, овладевает мыслями и чувствами, не отпуская, пока не докопаешься до сути. Это превосходный фильм. И пусть эти слова никогда не дойдут до адресата, хочется сказать: спасибо, мистер Коппола. Спасибо за все, спасибо за «Молодость без молодости».